Отзыв: Фильм "Оливер Твист" (2005) - Чьи сердца пропитаны горьким соком
Достоинства: Сценарий, визуал, операторская работа, игра актеров
Недостатки: Пока не знаю
…Но пока мне рот не забили глиной, // из него раздаваться будет лишь благодарность (И. Бродский)
Те же, чьи сердца пропитаны горьким соком, - заслуживают прощения (Dsholgin)
Это можно - снять фильм для собственных детей, чтобы они получили иллюстрацию не к роману Диккенса, а к миру, созданному Диккенсом и живущему давно по собственным законам; снять фильм, кажущийся точной и построчной копией текста Диккенса одним зрителям и вызывающий резкое отторжение непохожестью ни буквой, ни духом, у других. Снять фильм, рассказывающий увлекательную историю, не превращая эту историю в детектив, хоррор, триллер, слезливую мелодраму, оставив локацию удивительно английской, хоть Англию пришлось где только ни искать по Земле, не заменив мир, что лежит во зле, иным миром, не драматизируя, не смеша, не преувеличивая и не преуменьшая, - и оставить после просмотра в смятении, боли, жалости к человеку вообще, - всё это можно, если снимает гений. Кощунством почему-то кажется сравнивать, решать, насколько режиссер вдруг увидел в романе себя и свои страдания, насколько он увлекался ради именно этого фильма самим процессом, что видел, расставляя на своих досках эти фигуры. Об этом не стоит думать, так было угодно Кому-то выше, - и всё.
Странно предъявлять режиссеру претензии по поводу сокращения сюжета: в традиции сюжет давно был сокращён. Диккенс не писал лишнего, но роман - это первооснова, это, как говорят фикрайтеры, канон, его нужно знать, чтобы потом видеть, как выстраивали свои драмы режиссеры, решая свои художественные задачи и творя свои миры, убирая или добавляя то или иное ради концентрации мысли, создания развлечения, реализации гипотез. Кажется, фильм Поланского ближе к Диккенсу, чем чей-либо, прежде всего потому, что Полански, как и Диккенс, создавая в целом вроде бы сказку, в деталях воссоздавал обыденность, обыденность жестокой жизни со своими законами, той жизни, которой дело лишь до себя в каждом живущем; жизни, полной равнодушия: вот всплеск, вот непременный скандал в газете, вот беглый полузаинтересованный взгляд на строящуюся виселицу, - и всё, дальше свои дела, своя суета.
Именно в этой обыденности каждый раз совершается вечное пришествие, то, что отражено в строках евангелиста Матфея, 25:31-46. Этого и у Диккенса не сразу понимаешь, пока не ткнут, этого почти не понимаешь у режиссёра, когда видишь, как просто мальчик, живой ребенок, каждую минуту готовый на радость, идёт по жизни с огромными глазами, полными недетской боли, как он постоянно в прямом смысле слова падает, ибо испытания превышают детские силы, и как бьют, гонят, поносят, поливают клеветой и отвергают его в основном "добрые и хорошие в целом" люди. Как и Диккенс, Полански не романтизировал преступный мир, - даже до явных злодейств мир этот страшен, словно потусторонний, в нём всегда полумрак и нет того солнца, света, тех уголков рая, воздухом которых дышит мистер Браунлоу. Как и Диккенс, Полански полон безнадежности и надежды одновременно, - надежды на человеческое сердце.
А сердце щемит от потрясающе, неправдоподобно прекрасных "локаций" вечного пришествия; от старины, для современного зрителя столь же дальней, сколь и локации Ветхого Завета, от великолепной работы оператора Павла Эдельмана, его камеры, то глядящей с высоты ребенка, то смотрящей словно глазами героя на себя со стороны, сквозь время, выше времени. Даже дурные места удивительно прекрасны, с потёками на грязных окнах, с причудливой архитектурой жутких лестниц, грязных комнат, гнилых перекрытий. Поистине перелетаешь из тени в свет в этом мире, живом более, чем свой мир за окном: эта игра света и тени, характерная для Гюстава Доре, создавшего некогда графический портрет Лондона, не иллюстрировавшего Диккенса, но иллюстрировавшего Данте и Библию. Лохмотья и шляпа сгорбленного Фейгина, его зловещее актёрство, яркие краски на лице Нэнси, измученная бледность Нэнси-«дурочки», живущей словно где-то внутри себя, Нэнси с голландских полотен, женщины, убитой зверем, в коего, отупев, превратился человек; лицо Сайкса без тени шарма, к концу выжженного содеянным до пустоты; лица шайки, где дети уже и клоуны, и шестёрки, лицо Доджера, вдруг из циничного превратившееся в человеческое. Все лица, руки, ноги, лотки, шляпки и котелки, платья и фартуки, жилеты и ботинки, все декорации светлых адаптаций без тени их дружелюбности; стены и деревья, водоёмы, потоки холодного дождя, силуэты в тумане, комнаты Браунлоу, похожие в своей давней, стариковской темноте на своды католического храма, смешные очки чистенького Оливера, читающего в саду книгу, и снова свет, свет, много света, который проливается ясными потоками в конце адского пути на повзрослевшего человека. Тот, диккенсовский Оливер, обычный с виду, но особенный; Оливер, так и не узнавший, кто он такой и откуда, Оливер неважно какой национальности, тот, кого безошибочно узнают как родственника чистые сердцем, тот, за кого умрёт блудница и ради кого на секунду дрогнет сердце разбойника.
Все малые детали, отличающие канву, текст от канона, оказываются важными бесконечно, и все работают на непрекращающееся сочувствие, возможно, на большее - на непрекращающийся катарсис. В простоте экранизации - её глубина; в простоте - сама простота, больше которой ничего не нужно. Удивительно то, что иногда в литературе и часто в жизни в аду времени и личной судьбы выживают писатели или режиссеры, те, что потом могут свидетельствовать, - словно Бог их отбирает. Диккенс делает своего Копперфилда писателем; Полански своего Оливера "пытается сделать", но Оливер открещивается от возможности такого пути. Удивительно, что сам Оливер не собирается быть никем, кроме обычного человека; и прав Браунлоу, считающий, что писателей много, а вот Людей – мало; ибо неправдоподобная красота мира Оливера кажется порой красотой воспоминания, красотой того прошлого, что видится в «омуте памяти» и приобретает мистический налёт волшебства на всём, включая кошмарное; красотой мира, воссозданного творчеством.
О работе Бена Кингсли, конечно, невозможно умолчать. Как обозначить тот "артистизм" актёра, который критики то находят, то отвергают (не отвергая артистизма самого персонажа, заданного первоосновой)? Фейгин получился прекрасным в своей мерзости; это психологически и эстетически выверенная мерзость, за которой стоит нечто, заставляющее в фильме чистое существо бросаться в объятия паука и обливать его слезами жалости. Восторг, смешанный с болью, охватывает от того, что режиссер и актер смогли показать героя страшным, подлым, трусливым, смягчив образ лишь мелкими точными деталями, говорящими, что сердце ещё живо, точнее, что сердце всегда живо. Фейгин, черная овца на заклание, почти не ведающая, что творит, тот фашист из «Пианиста», что помог герою спастись, но не спасся сам. Конечно, можно вспомнить то, что Кингсли придумал за кадром биографию своему герою, потомку русских (польских?) евреев, сироте, который не только сам сделал неверный выбор, но которому выбор этот сделать отчасти "помогли"; актёр такой величины всегда может психологически достоверно сыграть героя, зная его "анамнез". Можно вспомнить сложную судьбу режиссера, в которой были вина, страх, ожидание наказания, возможно, более сложные чувства, понять которые нам не дано. Но кажется, что не позволить герою быть злым - это не позволить нации, стоящей за героем, состоять из живых людей; это не дать герою право на страдание, которое сделало его злодеем и которое стало карой за его злодейство; это сыграть роль дурного Бога, не дающего человеку свободы выбора. Поистине ужас наводят длинные коридоры тюрьмы с неусыпными стражами, где до казни агонизирует иссохшее и затравленное существо, где его крик звучит таким диссонансом, что от него можно умереть самому. Полански и Кингсли сделали нечто, что позволило анонимному критику, чьи слова вынесены в эпиграф, произнести приговор: виновен, но заслуживает прощения. Прощения вряд ли; жалости и слёз – несомненно.
Именно Фейгин, как ни странно, преподает главный урок Оливеру, то единственное, что мальчик безошибочно улавливает в потоке его липкой, эгоистичной речи и присваивает себе: человек должен быть благодарным. Но, кажется, в фильме Поланского даже больше драйва и развлекательности, чем дидактики. Поэтому после просмотра, кажется, не думаешь о морали, а только помнишь свет, только видишь надежду на жизнь там, за обложкой книги, за финалом, открытым ровно так же, как открыто само детство.
Те же, чьи сердца пропитаны горьким соком, - заслуживают прощения (Dsholgin)
Это можно - снять фильм для собственных детей, чтобы они получили иллюстрацию не к роману Диккенса, а к миру, созданному Диккенсом и живущему давно по собственным законам; снять фильм, кажущийся точной и построчной копией текста Диккенса одним зрителям и вызывающий резкое отторжение непохожестью ни буквой, ни духом, у других. Снять фильм, рассказывающий увлекательную историю, не превращая эту историю в детектив, хоррор, триллер, слезливую мелодраму, оставив локацию удивительно английской, хоть Англию пришлось где только ни искать по Земле, не заменив мир, что лежит во зле, иным миром, не драматизируя, не смеша, не преувеличивая и не преуменьшая, - и оставить после просмотра в смятении, боли, жалости к человеку вообще, - всё это можно, если снимает гений. Кощунством почему-то кажется сравнивать, решать, насколько режиссер вдруг увидел в романе себя и свои страдания, насколько он увлекался ради именно этого фильма самим процессом, что видел, расставляя на своих досках эти фигуры. Об этом не стоит думать, так было угодно Кому-то выше, - и всё.
Странно предъявлять режиссеру претензии по поводу сокращения сюжета: в традиции сюжет давно был сокращён. Диккенс не писал лишнего, но роман - это первооснова, это, как говорят фикрайтеры, канон, его нужно знать, чтобы потом видеть, как выстраивали свои драмы режиссеры, решая свои художественные задачи и творя свои миры, убирая или добавляя то или иное ради концентрации мысли, создания развлечения, реализации гипотез. Кажется, фильм Поланского ближе к Диккенсу, чем чей-либо, прежде всего потому, что Полански, как и Диккенс, создавая в целом вроде бы сказку, в деталях воссоздавал обыденность, обыденность жестокой жизни со своими законами, той жизни, которой дело лишь до себя в каждом живущем; жизни, полной равнодушия: вот всплеск, вот непременный скандал в газете, вот беглый полузаинтересованный взгляд на строящуюся виселицу, - и всё, дальше свои дела, своя суета.
Именно в этой обыденности каждый раз совершается вечное пришествие, то, что отражено в строках евангелиста Матфея, 25:31-46. Этого и у Диккенса не сразу понимаешь, пока не ткнут, этого почти не понимаешь у режиссёра, когда видишь, как просто мальчик, живой ребенок, каждую минуту готовый на радость, идёт по жизни с огромными глазами, полными недетской боли, как он постоянно в прямом смысле слова падает, ибо испытания превышают детские силы, и как бьют, гонят, поносят, поливают клеветой и отвергают его в основном "добрые и хорошие в целом" люди. Как и Диккенс, Полански не романтизировал преступный мир, - даже до явных злодейств мир этот страшен, словно потусторонний, в нём всегда полумрак и нет того солнца, света, тех уголков рая, воздухом которых дышит мистер Браунлоу. Как и Диккенс, Полански полон безнадежности и надежды одновременно, - надежды на человеческое сердце.
А сердце щемит от потрясающе, неправдоподобно прекрасных "локаций" вечного пришествия; от старины, для современного зрителя столь же дальней, сколь и локации Ветхого Завета, от великолепной работы оператора Павла Эдельмана, его камеры, то глядящей с высоты ребенка, то смотрящей словно глазами героя на себя со стороны, сквозь время, выше времени. Даже дурные места удивительно прекрасны, с потёками на грязных окнах, с причудливой архитектурой жутких лестниц, грязных комнат, гнилых перекрытий. Поистине перелетаешь из тени в свет в этом мире, живом более, чем свой мир за окном: эта игра света и тени, характерная для Гюстава Доре, создавшего некогда графический портрет Лондона, не иллюстрировавшего Диккенса, но иллюстрировавшего Данте и Библию. Лохмотья и шляпа сгорбленного Фейгина, его зловещее актёрство, яркие краски на лице Нэнси, измученная бледность Нэнси-«дурочки», живущей словно где-то внутри себя, Нэнси с голландских полотен, женщины, убитой зверем, в коего, отупев, превратился человек; лицо Сайкса без тени шарма, к концу выжженного содеянным до пустоты; лица шайки, где дети уже и клоуны, и шестёрки, лицо Доджера, вдруг из циничного превратившееся в человеческое. Все лица, руки, ноги, лотки, шляпки и котелки, платья и фартуки, жилеты и ботинки, все декорации светлых адаптаций без тени их дружелюбности; стены и деревья, водоёмы, потоки холодного дождя, силуэты в тумане, комнаты Браунлоу, похожие в своей давней, стариковской темноте на своды католического храма, смешные очки чистенького Оливера, читающего в саду книгу, и снова свет, свет, много света, который проливается ясными потоками в конце адского пути на повзрослевшего человека. Тот, диккенсовский Оливер, обычный с виду, но особенный; Оливер, так и не узнавший, кто он такой и откуда, Оливер неважно какой национальности, тот, кого безошибочно узнают как родственника чистые сердцем, тот, за кого умрёт блудница и ради кого на секунду дрогнет сердце разбойника.
Все малые детали, отличающие канву, текст от канона, оказываются важными бесконечно, и все работают на непрекращающееся сочувствие, возможно, на большее - на непрекращающийся катарсис. В простоте экранизации - её глубина; в простоте - сама простота, больше которой ничего не нужно. Удивительно то, что иногда в литературе и часто в жизни в аду времени и личной судьбы выживают писатели или режиссеры, те, что потом могут свидетельствовать, - словно Бог их отбирает. Диккенс делает своего Копперфилда писателем; Полански своего Оливера "пытается сделать", но Оливер открещивается от возможности такого пути. Удивительно, что сам Оливер не собирается быть никем, кроме обычного человека; и прав Браунлоу, считающий, что писателей много, а вот Людей – мало; ибо неправдоподобная красота мира Оливера кажется порой красотой воспоминания, красотой того прошлого, что видится в «омуте памяти» и приобретает мистический налёт волшебства на всём, включая кошмарное; красотой мира, воссозданного творчеством.
О работе Бена Кингсли, конечно, невозможно умолчать. Как обозначить тот "артистизм" актёра, который критики то находят, то отвергают (не отвергая артистизма самого персонажа, заданного первоосновой)? Фейгин получился прекрасным в своей мерзости; это психологически и эстетически выверенная мерзость, за которой стоит нечто, заставляющее в фильме чистое существо бросаться в объятия паука и обливать его слезами жалости. Восторг, смешанный с болью, охватывает от того, что режиссер и актер смогли показать героя страшным, подлым, трусливым, смягчив образ лишь мелкими точными деталями, говорящими, что сердце ещё живо, точнее, что сердце всегда живо. Фейгин, черная овца на заклание, почти не ведающая, что творит, тот фашист из «Пианиста», что помог герою спастись, но не спасся сам. Конечно, можно вспомнить то, что Кингсли придумал за кадром биографию своему герою, потомку русских (польских?) евреев, сироте, который не только сам сделал неверный выбор, но которому выбор этот сделать отчасти "помогли"; актёр такой величины всегда может психологически достоверно сыграть героя, зная его "анамнез". Можно вспомнить сложную судьбу режиссера, в которой были вина, страх, ожидание наказания, возможно, более сложные чувства, понять которые нам не дано. Но кажется, что не позволить герою быть злым - это не позволить нации, стоящей за героем, состоять из живых людей; это не дать герою право на страдание, которое сделало его злодеем и которое стало карой за его злодейство; это сыграть роль дурного Бога, не дающего человеку свободы выбора. Поистине ужас наводят длинные коридоры тюрьмы с неусыпными стражами, где до казни агонизирует иссохшее и затравленное существо, где его крик звучит таким диссонансом, что от него можно умереть самому. Полански и Кингсли сделали нечто, что позволило анонимному критику, чьи слова вынесены в эпиграф, произнести приговор: виновен, но заслуживает прощения. Прощения вряд ли; жалости и слёз – несомненно.
Именно Фейгин, как ни странно, преподает главный урок Оливеру, то единственное, что мальчик безошибочно улавливает в потоке его липкой, эгоистичной речи и присваивает себе: человек должен быть благодарным. Но, кажется, в фильме Поланского даже больше драйва и развлекательности, чем дидактики. Поэтому после просмотра, кажется, не думаешь о морали, а только помнишь свет, только видишь надежду на жизнь там, за обложкой книги, за финалом, открытым ровно так же, как открыто само детство.
| Общее впечатление | Чьи сердца пропитаны горьким соком |
| Моя оценка | |
| Рекомендую друзьям | ДА |
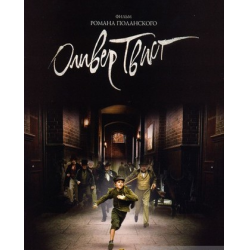
Комментарии к отзыву